Андре Моруа (1885—1967) относится к тем большим писателям XX века, которые перед лицом фашистского варварства стали хранителями немеркнущих ценностей мировой культуры.
Его сердцу были дороги художники, чье правдивое творчество освещалось высокими идеалами. Лучшие книги Моруа посвящены Байрону и Гюго, Жорж Санд и Бальзаку.
В понимании Моруа «Искусство — это действительность, упорядоченная художником, несущая на себе печать его темперамента, которая проявляется в стиле» *. Формула подчеркивает активную роль художника, не только воспроизводящего жизнь, но и преобразующего ее по законам творчества. Каков главный из этих законов? Ответ дается в статье с программным названием «Долг говорить правду». Моруа отнюдь не требует, чтобы писатель был моралистом и излагал в своих романах правила хорошего поведения. «Но если он хочет дать образ реального мира, у него есть обязанность быть правдивым».
Моруа последовательно выступает за реалистическое искусство, за верность классической традиции, он против модернистских увлечений. Отдавая должное эстетическим открытиям больших писателей XX века «от Пруста до Камю» (так называется один из сборников литературных портретов Моруа), критик в раздумье останавливается там, где, по его мнению, художественный поиск оказывался малопродуктивным.
Показательны в этом смысле рассуждения Моруа о «новом романе» в работе «Шестьдесят лет моей литературной жизни» (1966) **: «Рождался новый роман; он уходил от романа бальзаковского, и от романа событийного, и от романа психологического. Теперь связный рассказ о какой-либо истории выглядел художественным промахом, неупорядоченность повествования делала автору честь, темный эзотеризм обеспечивал ему славу». Говоря о своем живом интересе к произведениям Клода Мориака, Мишеля Бютора, Алена Роб-Грийе, Натали Саррот, людей одаренных, по-своему блестящих, Моруа подчеркивает, что во многих их книгах имеется «формалистическая, бесчеловечная сторона», которая шла вразрез с его внутренними устремлениями и заставляла его снова и снова обращаться к своим учителям — Бальзаку и русским классикам.
Моруа ведет полемику с Альберто Моравиа, выступившим с лекцией на тему «Кризис романа». Моравиа утверждал, что «открытия, сделанные в XX веке, потрясли, а потом и прикончили роман. Пруст и Джойс уже сказали все, после них говорить не о чем. Роман зашел в тупик; там он и умрет». Возражая Моравиа, Моруа отвергал положение о «смерти романа»: «Обыденное и бессознательное и в самом деле занимают очень важное место в нашей жизни, но мир к этому не сводится. Действие тоже существует, существует персонаж и общество. И ничто не мешает объединить в одном произведении действие, обыденность и бессознательное». И не без оснований приводил в качестве примера роман Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Двадцать лет отделяют нас от полемики между Моравиа и Моруа. Бесплодные дискуссии о кризисе романа прекратились: живое движение литературы опровергло неверный тезис. Реалистический роман развивается, «новый роман» умирает.
Второй решающий критерий, выдвигаемый Моруа, — это гуманизм. Писатель не раз вступал в полемику с «черными» авторами, полагающими, что трагические стороны современной действительности могут породить только мрачное, пессимистическое искусство. «Да, — говорит Моруа, вспоминая страшное время фашистской оккупации, — мы и в самом деле видели отвратительных чудовищ. Однако рядом с ними сколько героев, одновременно мужественных и добрых; какая самоотверженная преданность самым человечным идеалам, сколько уже сделано для того, чтобы человек стал более счастливым и равноправным. И если вы не скажете об этом, если на вашей палитре не будет наряду с мрачными красками живых и веселых цветов, вы дадите искаженную картину жизни и причините много зла» ***.
Все читали биографии великих людей, принадлежащие перу Андре Моруа, многие — его психологические романы, мало кто — критические статьи. А между тем эта часть его литературного наследия представляет большой интерес. Литературные портреты он писал с таким же блеском, что и биографии, тем более что жанры эти очень близки. Иное жизнеописание (скажем, Вольтера) является как бы развернутым литературным портретом, а книги Моруа о Диккенсе или Шатобриане, Тургеневе или Прусте приближаются к типу критического исследования.
Главное, что объединяет все, написанное Моруа, — это его метод, биографический подход к творчеству. Во французской критике у Моруа были именитые предшественники. Сошлемся на Сент-Бёва, утверждавшего, что художественное произведение неотделимо от его создателя.
А. В. Луначарский, ценивший тонкий анализ, верный вкус и силу стиля Сент-Бёва, справедливо отмечал уязвимость его общей концепции: «Он делает центром своих наблюдений человеческую личность. Литературное произведение не рассматривается больше как функция общественности, а как продукт определенного характера» ****. Положение это может быть в известной мере распространено и на других представителей биографического метода в литературоведении. Помогая понять частные мотивы в творчестве писателя, метод этот грешит субъективизмом; в конечном счете он мало продуктивен. Но когда исследователь верно учитывает роль художника в литературной и общественной жизни своего времени — результаты могут быть значительными. Это относится к лучшим литературным портретам, вышедшим из-под пера Андре Моруа.
Ключом, открывающим творческую лабораторию Моруа, можно считать знаменитую формулу Флобера: «Госпожа Бовари — это я». Придавая этой формуле универсальное значение, Моруа склонен видеть в каждом значительном персонаже, созданном писателем, частицу его личности, его творческое «я» («Нечто от самого Бальзака присутствует не только в Луи Ламбере, но и в Вотрене и даже в бароне Юло»). Отсюда — место, которое Моруа отводит личности художника: он не отделяет «человека от писателя».
Границы метода Моруа очевидны. Так, мы не можем согласиться с тем, что творчество Марселя Пруста связывается с различными комплексами сложной натуры автора романа о поисках утраченного времени. Зачастую Моруа — и в биографиях и в критических статьях — преувеличивает значимость личных отношений писателя для его произведений. Действительно, обстоятельства жизни писателя, особенности его душевного склада помогают понять определенные стороны его произведений. Нельзя не видеть неизгладимую печать, которую наложила бурная жизнь Байрона, его яркая личность на все им созданное. Но можно ли ограничиться «биографическим» объяснением творчества писателя? Там, где Моруа не уделял должного внимания времени, эпохе, формирующей творческую личность, он побед не одерживал. Показательна в этом смысле биографическая работа Моруа «Ариэль, или Жизнь Шелли» (1923). Но и сам Моруа увидел со временем недостатки не только этой книги, но и ограниченность одного лишь биографического подхода. Вся творческая эволюция Моруа — от жизнеописания Шелли до биографии Бальзака — говорит о том, что он все теснее и теснее связывал жизнь писателя с теми общественными обстоятельствами, в которых она складывалась и проходила.
Немалую роль в формировании взглядов Моруа на мир, общество, искусство сыграл его школьный учитель Ален.
...Октябрь 1901 года. Лицей Корнеля в Руане. Первый урок философии. Дверь открылась, словно распахнутая ветром. Высокий молодой человек с крупными, правильными чертами лица оглядел с улыбкой класс, подошел к доске и написал несколько слов по-гречески. Взгляд учителя остановился на Эмиле Эрзоге, в будущем — Андре Моруа.
— Переведите.
— «Всеми силами души надо стремиться к истине».
Знаменитое изречение Платона стало девизом Эмиля, а встреча эта наложила печать на всю его жизнь.
По своим общественным воззрениям Ален являлся сторонником буржуазно-демократических порядков; печатался в газетах радикалов, был антиклерикалом, выступал в защиту Дрейфуса. Можно говорить о гуманизме Алена: Моруа подчеркивает, что Ален призывал доверять человеку, его разуму, его воле. С этих в достаточной мере отвлеченных позиций Ален осуждал войны, был беспощаден к тем, кто их развязывает. «Он пришел к убеждению, — говорит Моруа, — что война и угроза войны является величайшим злом нашего общества». Важная мысль, близкая самому Моруа.
Философские и эстетические взгляды Алена во многом восходят к Платону. Необходимым условием искусства Ален считал подражание природе. Он утверждал: попытка вывести произведение из одних мечтаний всегда оказывается гибельной для художника. До конца своих дней Ален сохранил верность великим мастерам реалистического искусства — Бальзаку и Стендалю. В реалистической манере выдержаны и его собственные «Суждения», оригинальный жанр, стоящий на грани философии и литературы. В истории французской мысли Ален занял прочное место, правда, не столь высокое, как это представлялось его любимому ученику.
Не разделяя порой чересчур восторженных оценок, мы тем не менее должны отметить неизменное искусство анализа и блеск изложения, характерные для критических статей Моруа, что и делает их привлекательными и для специалиста-литературоведа и для широкого читателя.
Интересы Моруа-критика шире и многообразнее интересов Моруа-биографа. Многочисленные статьи Моруа охватывают крупнейшие явления французской и мировой литературы.
Превыше всего ставил Моруа русскую классику. Мальчику было одиннадцать лет, когда учитель словесности подарил ему книгу рассказов русских писателей — Пушкина, Гоголя, Толстого. Старый учитель сказал: «Ты будешь писателем. Через двадцать лет это тебе пригодится». Он не ошибся. «Так началась, — говорит Моруа, — моя великая любовь к русским писателям; с тех пор я никогда не переставал ими восхищаться». В зрелые годы, в изгнании, во времена фашистской оккупации, Моруа помогали жить его духовные «братья» князь Андрей Льва Толстого и доктор Антуан Тибо Роже Мартен дю Гара.
В наши дни Моруа продолжил благородную традицию изучения и популяризации русской литературы, традицию, заложенную во Франции Проспером Мериме. Особый интерес представляет сказанное Моруа о Тургеневе, Чехове, Толстом.
О вкладе Тургенева в развитие французской культуры говорили в свое время братья Гонкуры, Флобер, Мопассан, Доде. Эта проблема освещается в книге Моруа «Тургенев», вышедшей в 1931 году. Из неразрывной связи с русской действительностью выводит Моруа главные особенности творчества Тургенева. Рудин для критика не столько литературный персонаж, сколько живой человек; Моруа противопоставляет художественный метод Тургенева бытовавшему в ту пору во Франции натурализму. Отмечая одухотворяющий все его творчество гуманизм, Моруа называет реализм Тургенева «поэтическим». Пользуясь выражением Гёте, можно сказать, что Моруа увидел в творчестве великих русских писателей «поэзию и правду».
Поэтическим считал Моруа и реализм Чехова — «Шопена в драматургии». Поэтичность и музыкальность сочетается у Чехова, по словам Моруа, с крайней простотой сюжета. Но за этой простотой стоит громадное жизненное содержание. «У Чехова самый обычный случай всегда открывает огромные перспективы для постижения человеческой натуры и мира идей». Моруа восхищается не только писателем, но и человеком. Образ жизни Чехова он именует «героическим без громких слов». Недаром очерк о Чехове Моруа опубликовал в цикле с программным заглавием «Образцовые судьбы».
«Самым великим» называет Моруа Льва Толстого, художника, особенно близкого его сердцу. Он посвятил Толстому немало статей, выступал с речами о его жизни, книгах, мечтал на старости лет написать его биографию. Моруа говорил о мировом значении Толстого, о влиянии на французскую литературу, которое испытал сам. «Войну и мир» и «Анну Каренину» Моруа считал самыми прекрасными романами из всех когда-либо написанных. Толстой, «как совершенное зеркало, отражает всю глубину существования. Читателя уносит плавное течение полноводной реки. Это течет сама жизнь» *****.
Моруа утверждал, что «творения Шекспира, Бальзака и Толстого — три величайших памятника, воздвигнутые человечеством для человечества»******.
Бальзака же Моруа почитал и вершиной французской литературы. К вершине этой путь лежит через столетия, от нее дорога устремляется в наши дни. Многовековому пути французской словесности и писателям нашего времени посвящены литературные портреты, составившие четыре книги Андре Моруа: «От Лабрюйера до Пруста» (1964), «От Пруста до Камю» (1963), «От Жида до Сартра» (1965), «От Арагона до Монтерлана» (1967). В книге, предлагаемой читателю под заглавием «От Монтеня до Арагона», собраны наиболее яркие очерки.
Они написаны в разное время, различны по жанру: это критические статьи, доклады, лекции, предисловия, рецензии. Но их объединяет единая авторская позиция, позиция человека, живущего в мире любимых книг. Моруа близки слова Сартра: «Я начал жизнь так же, как, без сомнений, закончу ее — среди книг». Поэтому и авторы и литературные герои становятся друзьями, собеседниками. Если воспользоваться понятием М. М. Бахтина, то Моруа как бы погрузился в «большое время» литературы, где идет непрестанный диалог великих произведений. Каждому писателю (и тем более — не очень значительному) надо определить его точное место в этом ряду. Вот почему, скажем, так настойчиво и последовательно приводит Моруа различные мнения о Ретифе де ла Бретонне писателей и критиков XIX—XX веков, анализирует параллели с авторами эпохи Просвещения. Хор противоречивых голосов и оказывается истинным суждением об этом противоречивом человеке и творце. Но главные фигуры литературного мира, созданного Андре Моруа, это Вольтер, воплощающий классический стиль, Шатобриан — романтический и Стендаль — реалистический. Последний, как и его герой Жюльен Сорель, служит также мерилом правды, образцом бунтаря-разночинца, восставшего против чуждого общества, где он пытался сделать карьеру.
Жанр литературных портретов позволяет понять не только чужие творения и судьбы, но и собственный художественный путь, В статьях и эссе ярко проступает писательская индивидуальность Моруа, твердо отстаивающего свою позицию в вечном «диалоге мертвых», проявляются его литературные вкусы, пристрастия, жизненное кредо. По сути, это иная форма мемуаров, над которыми писатель трудился все последние годы, успев их завершить за несколько недель до смерти. Не случайно во введении к сборнику «От Жида до Сартра» Моруа вспоминает слова из дневника Льва Толстого: «Если буду жив...», — закончить историю французской словесности было столь же важно, как и историю своей жизни.
А начинается рассказ с XVI века, с творчества Монтеня, которое стало связующим звеном между искусством Возрождения и любезным сердцу Моруа классицизмом. Анализируя «Опыты», Моруа отказывается считать их создателя беспросветным скептиком и пессимистом. Он не признает известную формулу «Что знаю я?» конечным выводом мудрости Монтеня, подчеркивает позитивное, жизнеутверждающее начало его философии. Моруа говорит о гуманности Монтеня, приводит его слова в защиту «слабых» против сильных мира сего, ссылается на выступления против пыток. Писатель словно снимает временную дистанцию, отбрасывает четыре столетия, разделяющих нас. Разговор о Монтене идет как о живом человеке (кстати, знаменитая башня, где Монтень сочинял «Опыты», расположена неподалеку от дома Моруа в Перигоре — Моруа любил величать его соседом). По мнению Моруа, и для человека нашего времени не сыщешь лучшего советчика.
Для французской литературы «Опыты» стали образцом проницательного философского анализа мира, культуры, самого себя. Перевод «Параллельных жизнеописаний» Плутарха, осуществленный старшим современником Монтеня Амио, воспитателем будущих королей Карла IX и Генриха III, оказал, по мнению Моруа, серьезное влияние на всю западную культуру. Книга создала правила художественного описания человеческой судьбы и одновременно высокий эталон бытового поведения, которым руководствовались поколения писателей и политических деятелей вплоть до XIX века. О героях Плутарха вспоминали полководец Конде и Людовик XIV, Расин и Руссо, Мирабо и Наполеон, эту книгу высоко ценили Стендаль и Сент-Бёв. Амио оказался воспитателем не только монархов, но и революционеров. Сам же Моруа вынес из «Жизнеописаний» глубокий урок: передать живое восприятие человека ушедшей эпохи важнее, чем перечислять исторические даты и факты.
Необычайно интересна мысль Моруа, что потомки восприняли облик Амио через призму его стиля: наивным был не переводчик, а строй языка его эпохи. Моруа, прекрасный стилист, подчиняющий риторически украшенную речь своих эссе требованиям классической ясности и выразительности, остро чувствует индивидуальную манеру каждого писателя. Его стилистические разборы, предельно точные и убедительные, раскрывают особенности художественного видения мира через анализ лингвистических средств и возможностей. Поэтому перед нами предстает не только история французской литературы, но и своеобразная история французского литературного языка.
Кардинал де Рец, один из предводителей Фронды, несмотря на свой ум и ловкость, потерпел поражение на политической арене. Но после смерти он одержал победу — в «Мемуарах» он предстал как лучший историк своей эпохи (не случайно он столь внимательно изучал Плутарха). Творение Реца — это один из первых во французской литературе рассказов «о времени и о себе», оно находится посредине между книгами Монтеня и герцога Сен-Симона. С тех пор воспоминания, автобиографии, исповеди стали почти обязательным жанром для многих писателей и общественных деятелей Франции. И Андре Моруа, считавший мемуары одной из важнейших частей творческого наследия художника, всегда уделял им особое внимание, тем более что к этому подталкивала его и специфика биографического метода исследования. «От Монтеня до Арагона» оставили воспоминания Вольтер и Руссо, Ретиф де ла Бретонн и Шатобриан, Стендаль и Мишле, Франс и Роллан, Мартен дю Гар и Мальро, Сартр и Симона де Бовуар. Многие литературные портреты строятся именно на постижении тонкой границы, отделяющей жизнь от ее творческого преображения, на противоречии человека и художника.
В семнадцатом веке, в руанском лицее Корнеля (тогда это был иезуитский коллеж) учился Фонтенель. Лабрюйер и он завершают эпоху классицизма и открывают эпоху Просвещения. И как это зачастую бывает с писателями переломных периодов, творчество их обращено в будущее. Лабрюйер, сын своего времени, глядел далеко вперед. Создавая сатиру на королевский двор, он думал о крестьянах. В выборе между народом и аристократами Лабрюйер не колеблется: «Я хочу быть народом». В очерке Моруа приводится интересная мысль о том, что Лабрюйер был революционером за сто лет до Французской революции.
Глубокое знание людей его эпохи позволило Лабрюйеру изваять «характеры», поражающие верностью жизни и психологической правдой. Лабрюйер ломал жесткие каноны классической эстетики, писал легко, свободно, непринужденно. Точному выбору слова он придавал куда больше значения, чем стройной и строгой композиции. Думая о всеобщем, он не забывает индивидуального, характерного. И мы соглашаемся с выводом Андре Моруа: «Лабрюйер — реалист, такой же, каким был Монтень и какими будут писатели XIX века, но какими никогда не были моралисты его времени».
«Кризис европейского сознания» на рубеже XVII—XVIII веков, изменение традиционных представлений о природе и обществе привели к существенной трансформации жанровой системы, появлению новых, «незаконнорожденных» жанров. Огромные барочные романы вымерли, как динозавры, но отдельные их составляющие, подробно разработанные, обрели самостоятельное существование: афоризмы, моральные сентенции,
характеры, письма, исповеди, сказки, диалоги. Древний жанр философских бесед во Франции, по сути, возродил Фонтенель. В «Диалогах мертвых» он придумал столкнуть в спорах древних и новых авторов, свести Сафо и Лауру Петрарки, Сократа и Монтеня. В «Беседах о множественности обитаемых миров» в изящной галантной манере изложены космогонические системы Коперника и Декарта. Сейчас это сочинение может показаться наивным, но в нем содержатся поразительные предвидения — в частности, описание искусственного спутника земли. Некоторые идеи Фонтенеля предвосхищают Эйнштейна.
Рисуя портрет писателя, Моруа стремится показать его в живом движении культуры, в противоречиях, в литературной борьбе. Он ищет ему двойника-антагониста: как часто бывает, близкие по духу художники оказываются литературными соперниками. Так, в книге Моруа создаются пары: Фонтенель — Вольтер, Ретиф де ла Бретонн — Руссо.
Подлинная поэзия Вольтера в его прозе. Моруа считает истинно поэтическими не тяжеловесные трагедии Вольтера, а его короткие ослепительные шедевры — философские повести. Он с полным основанием полагает, что именно эта часть литературного наследия писателя наиболее актуальна для современности: к опыту Вольтера обращался Анатоль Франс, с учетом того, что было достигнуто в XVIII столетии, развивается интеллектуальный роман XX века. Важное значение придается самой сути философской мысли Вольтера, представленной в эволюции, в последовательном развитии. Конечный вывод «Кандида» — «Надо возделывать свой сад» — близок и автору «Литературных портретов». В толковании Моруа эти знаменитые слова направлены сегодня против авторов, утверждающих абсурдность бытия, — их мрачной философии противостоит мудрость Вольтера: если мир устроен плохо, надо трудиться над тем, чтобы он стал лучше.
Обращаясь к Руссо, Моруа выбирает для рассмотрения только «Исповедь». В центре внимания — проблемы, связанные с раскрытием личности в этом своеобразном литературном жанре. Подчеркивается необычайная искренность Руссо, глубина проникновения в человеческую психологию. Прослеживаются нити, связующие Руссо с Шатобрианом, Стендалем, современными французскими авторами. Стоило бы упомянуть здесь и Льва Толстого: еще в ранней молодости «Исповедь» произвела на него «огромное впечатление» *******. На склоне лет, в 1901 году, Толстой сказал о Руссо: «Многие страницы его так близки мне, что мне кажется, я их написал сам» ********.
Моруа показывает, что в жизни и в «Исповеди» Руссо был двойственен, противоречив; бытовое поведение не покрывалось ореолом просвещенного гражданина, философа.
Разбирая «Исповедь», Моруа сосредоточился на анализе личности Руссо. Но из-за этого оказалось приглушено общественное содержание книг великого плебея-бунтаря, готовившего умы для приближавшейся революции.
Таким же «профессионалом публичной исповеди» был и последователь Руссо Ретиф де ла Бретонн, в чьем творчестве соединились эстетика сентиментализма, просветительский пафос преобразования всех сторон общества: языка, образования, семьи, собственности — и грубая распущенность, описание нравов городского дна. Самый трезвый реализм сочетался у него с безудержным полетом воображения, приводившего его к идеям утопического социализма, к научно-фантастическим предсказаниям (он считал, что источником заразных болезней служат микробы, что в будущих войнах солдаты будут сбрасывать бомбы с летательных аппаратов тяжелее воздуха). Крестьянин по происхождению, печатник по профессии, он сочинял свои многотомные книги с поразительной быстротой, иногда даже прямо в типографии в процессе набора.
Но революция, которую так страстно призывал Ретиф, отвергла его — он умер в безвестности, замученный нищетой и болезнями. Удачней сложилась судьба другого поклонника Руссо — деятельного участника революции, артиллерийского офицера Шодерло де Лакло, вписавшего свое имя в литературу всего одним творением — «Опасными связями». В проникновенном портрете, созданном Моруа, весьма точно определяется значение книги; «Опасные связи» в области романа были, в сущности, тем, что на театре — «Женитьба Фигаро»: памфлетом на безнравственный, могущественный и корыстный класс». Исполнен диалектики анализ главного героя книги — «профессионального донжуана» виконта де Вальмона. Моруа раскрывает драматизм образа Вальмона, человека сильной воли, оставшейся без достойного применения. В светском обществе XVIII века важнейшим делом «становилась любовь». В нашей критике справедливо отмечалось, что искусством создания сложных человеческих образов Лакло предвосхищает художественные открытия критического реализма XIX века. Остается добавить: отсутствие каких бы то ни было иллюзий в отношении общества, обреченного на слом, бесстрашный психологический математически точный анализ сближает Лакло с французскими авторами XX века.
Шодерло де Лакло — человек, нашедший применение своей энергии в делах революции, — достойно завершает литературу эпохи Просвещения. Новая глава в истории французской литературы — глава о романтизме.
Через всю свою долгую жизнь пронес Моруа любовь к писателям романтической эпохи, к яркой, крупной личности, по самой своей природе враждебной прозе буржуазного бытия. В двадцатые годы он пишет о Шелли и Байроне. После войны выходит его трилогия о великих французских романтиках. Обращаясь к прогрессивной национальной традиции, Моруа пишет книгу о «Музе республики» Жорж Санд (1952). Через два года вышла биография Гюго, «самого великого французского поэта». И наконец, «Три Дюма» (1957), книга столь же популярная, как и сочинения ее главного героя.
В течение первой половины XIX века серьезное влияние на литературную, религиозную, политическую жизнь Франции оказывали книги и дела Шатобриана. Да, он придерживался консервативных политических взглядов, но, считает Андре Моруа, «помыслами, отвагой, любовью к свободе он был связан с революцией». Приверженец классической ясности и, в этом смысле, продолжатель Вольтера, Шатобриан заложил основы нового романтического стиля мышления и самовыражения. Ни в жизни, ни в творчестве писатель не смог создать совершенной эпической поэмы. Ею стали мемуары — «Замогильные записки». Их магическое обаяние Моруа видит в том, что хотя стареющий «патриарх романтизма» с горечью разбирает свою многотрудную жизнь, он не хотел бы иной, не перенес бы длительного безоблачного счастья. Уже на пороге смерти Шатобриан понял ничтожность того, к чему так долго стремился, и имел мужество это признать.
Другая яркая фигура в духовной и политической жизни Франции этого времени — Ламенне, страстный проповедник католицизма и свободы, призывавший к соединению церкви с народом через головы королей и правительств. Когда демократические взгляды Ламенне навлекли на него опалу со стороны Ватикана, когда из модного наставника он превратился в нищего мирянина, тогда его приютили друзья — Беранже и Шатобриан.
После смерти Ламенне историческое развитие католицизма в какой-то мере пошло по указанному им пути. И в XX веке, когда церковь стремится к обновлению, когда появилось движение «священников-рабочих», когда некоторые прогрессивные религиозные деятели стремятся действовать воедино с демократическими силами, наследие религиозного бунтаря снова становится живым и актуальным.
Среди французских романтиков Моруа по справедливости отводит особое место Альфреду де Виньи. Критику импонировала не только философия стоического пессимизма. С юных лет Моруа зачитывался «Неволей и величием солдата». Если начинающего литератора увлекала суровая поэзия воинского дела, то стареющий писатель был готов подписаться под выводом Виньи: «Существование армии — явление прискорбное». Моруа усматривает в Альфреде де Виньи предтечу писателей нашего времени: он ведет линию к Кафке, Сартру, Камю. На наш взгляд, эта интересная литературная параллель все же недостаточно обоснована — при всем пессимизме Виньи не утратил веры в величие человеческого духа.
Альфред де Мюссе, тесно связанный с романтиками, пошел дальше своих собратьев по перу. Моруа верно говорит о том, что поэтический театр Мюссе близок нам, людям XX века. Близок прежде всего правдой человеческих характеров, тончайшим, филигранным анализом душевных переживаний. Пожалуй, Моруа, верный своему биографическому методу, несколько прямолинейно сближает Мюссе с персонажами его пьес. Но в главном, в общей оценке театра Мюссе, Моруа не ошибся. В защиту парадоксального, казалось бы, сравнения Мюссе с Шекспиром можно привести и суждение П. И. Чайковского: «Тщетной погони за локальной правдой у Мюссе вовсе нет, как и у Шекспира, но зато у него столько же общечеловеческой, вечной и не зависящей от эпохи и местности правды» *********.
«Тайны Эжена Сю» — выразительное заглавие литературного портрета автора «Парижских тайн». Рассказывая о писательской судьбе Эжена Сю, Моруа со знанием дела говорит о том, что автор, которого поначалу превозносили до небес, был впоследствии «низвергнут в ад коммерческой литературы». Сегодня, более чем когда-либо, очевидны идейные просчеты Сю, высмеянные в свое время Марксом. Принципы романтической эстетики, так же как и идеалы утопического социализма, оказались трансформированными по законам «массовой культуры». Вместе с тем Моруа прав, когда пишет о гуманности произведений Сю, об искренней любви к «отверженным», персонажам «Парижских тайн», об антиклерикальной направленности «Агасфера». Критик напоминает, что в дни государственного переворота Луи Бонапарта Эжен Сю занял твердую гражданскую позицию, добровольно удалился в изгнание.
Живописно выглядит у Моруа коннетабль, главнокомандующий французской словесности Барбе д'Оревилли, человек титанического сложения в новомодном сюртуке, с усами викинга и гривой крашеных волос. Критик сосредоточил внимание на психологической загадке Барбе, который надел романтическую маску денди, чтобы скрыть лицо, выражающее страдание, — постепенно лицо уподобилось маске. Жизнь и творчество Барбе д'Оревилли раздирались кричащими противоречиями. Исступленный католик, ревностный легитимист, он пришел к разрыву с монархистами и клерикалами. Стремление к правде зачастую одерживало победу над консервативными воззрениями. И нас не удивляет, что Моруа причисляет Барбе д'Оревилли к лучшим французским писателям XIX века.
В очерке о Мишле Моруа обращается не к сочинениям, принесшим славу этому серьезному ученому и яростному полемисту, романтику исторической науки, писавшему многотомную «Историю Франции» превосходной, ритмически организованной прозой, а к его автобиографии. Но создана она была не в конце, а в начале жизненного пути. «Дневник» Мишле рассказывает о трудных, голодных годах ученичества, когда лишь беспрерывное чтение, переносившее в иной мир, помогало подростку забыть о лишениях и тяготах.
Специфика литературного процесса во Франции XIX века во многом определялась длительным сосуществованием и взаимодействием двух противоположных художественных направлений — романтизма и реализма. Для Моруа важнее другое, универсальное противопоставление: классиков и романтиков, т. е., в его терминологии, тех, кто «рисует действительность такой, какова она есть» и тех, кто «бежит от реальности». В каждом великом художнике есть оба этих начала, но, как считает Моруа, вплоть до «Госпожи Бовари» Флобера, уничтожившей литературный сентиментализм, французские романисты были в основном романтиками.
Поэтому нас не должно удивлять, что Моруа склонен считать романтиком Стендаля. Преувеличивая черты романтизма в художественном методе писателя, критик со всей очевидностью недооценивает его реалистическую направленность. Правда, большого значения дефинициям Моруа не придавал. Его привлекала прежде всего живая плоть художественного произведения. Проникая в суть творческого процесса, Моруа самым внимательным образом прослеживает, как эпизод уголовной хроники стал фактической основой классического французского романа «Красное и черное». Из его анализа явствует, что Стендаль всегда оставался «верным реальности». «Что может быть гениальнее самой жизни?» — замечает Моруа. Но в эссе о Стендале читатель, конечно, отметит, что Моруа сосредоточивает свое внимание на психологических проблемах, возникающих в связи с образом Жюльена Сореля. Вне поля зрения критика остается та сила плебейского протеста, носителем которого является герой романа. Ведь на драматическую судьбу Жюльена Сореля падают далекие отсветы Французской революции. Но вспомним, что, когда Моруа в других статьях обращается к Стендалю, он подчеркивает именно бунтарский характер писателя и его героя.
Мы уже говорили о месте, какое Моруа по праву отводит Бальзаку. В книге «Прометей, или Жизнь Бальзака» (1965) ********* Моруа создал титанический образ писателя, который за двадцать лет работы написал более семидесяти шедевров «Человеческой комедии». Андре Моруа не разделяет точку зрения тех французских ученых, которые относят Бальзака к романтикам. В произведениях Бальзака Моруа увидел сочетание элементов реализма и романтизма; здесь критик приближается к пониманию метода писателя как реализма универсального, синтетического, включающего черты романтического искусства. Рассматривая «Отца Горио» как первый роман «Человеческой комедии», ее краеугольный камень, Моруа подчеркивает прочные связи произведения с самой реальностью: «Именно в романе «Отец Горио» мир, созданный Бальзаком, приобретает столь достоверные черты, что его трудно отличить от мира действительного». Вместе с тем главные герои романов Бальзака — отец Горио, мученик отцовской любви, и Цезарь Бирото, живое воплощение честности, — являются носителями исключительных, гипертрофированных человеческих страстей.
Исходя из биографического метода, Моруа в статьях о Бальзаке, как и в других эссе, останавливается на личном жизненном опыте, который был использован писателем при создании тех или иных персонажей. Принцип этот получает дальнейшее развитие в эссе о Флобере. «Флобер, — говорит Моруа, — бичует в своей героине собственные заблуждения». Здесь и в последующих рассуждениях критика есть некая односторонность: хотя Флобер и вложил частицу собственной души в образ своей мятущейсягероини, вряд ли возможно ставить знак равенства между переживаниями Эммы и исканиями ее создателя.
В статье о Мопассане, ученике и литературном преемнике Флобера, Моруа стремится дополнить свой подход принципами культурно-исторической школы, учесть классическую триаду И. Тэна: раса, среда, момент. Но все же остается зазор между живым и убедительным портретом прославленного реалиста и разбором романа «Сильна как смерть» — не самого значительного произведения из творческого наследия Мопассана. Хотя сам писатель воспользовался формулой Флобера, заявив: «Г-жа де Гильруа — это я», биографический метод здесь работает вхолостую. Моруа уходит от проблемного анализа к стилистическому, к сопоставлению отдельных эпизодов с романами Бальзака, Толстого, Пруста.
Большой интерес представляет мнение Моруа, что творчество Мопассана, его место в истории литературы вернее оценивают за рубежом, в частности в России, чем на родине писателя.
В небольшой статье, по сути дела рецензии на книгу Жана Левайана, Моруа удалось воссоздать жизненный и литературный путь Франса, писателя, перевертывающего последнюю страницу толстой книги «XIX век» и открывающего новую, еще не до конца написанную книгу. Некоторые мысли нуждаются, однако, в уточнении. Отдавая должное Франсу-юмористу, мы всегда помним о Франсе-сатирике, обличителе. Хотелось бы высказать и одно общее соображение: здесь, как и в некоторых других портретах писателей XX века, Моруа не обращается к категории реализма. Ничего не говорится о том, что Франс был крупнейшим представителем французского критического реализма на рубеже двух столетий. Так понятие художественного метода размывается, сводится, по сути, к противопоставлению классицистического и романтического типов творчества. Продолжение статьи...

 |
 |

Часы
Поиск
...
Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Статистика
Статистика Рамблер
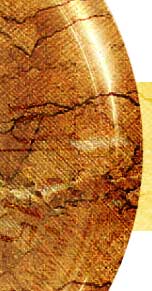 | Воскресенье, 01.02.2026, 11:02 |
| Приветствую Вас Гость | RSS | |
 АНДРЕ МОРУА АНДРЕ МОРУА | |
| Главная | Регистрация | Вход | |
Статья Ф. Наркирьер |
