[...]
Мой издатель Бернар Грассе предупредил меня: «В ваше отсутствие против вас сложился настоящий заговор. Группа литераторов из «Меркюр де Франс» — Луи Дюмюр, Валетт и Леото — решили извести вас. В чем дело? Они считают, что вы слишком быстро достигли успеха. «Брембл», «Ариэль», «Дизраэли»... огромные тиражи и благосклонность критики не дают им покоя. Они хотят доказать, что ваши книги списаны с английских источников. Все это нелепо, но злоба и зависть не рассуждают».
Грассе оказался прав. Враги искали какого-нибудь известного специалиста по английской культуре, который бы согласился предъявить мне обвинения. Разумеется, найти такого было непросто. Все, от Легуи до Косцуля, были на моей стороне. Тогда роль обвинителя предложили Анри Давре. Он посоветовался с Уэллсом, которого переводил. Уэллс ответил: «Не связывайтесь. Это глупые обвинения». И Давре отказался. Леото написал Арнольду Беннетту, которого хорошо знал, и получил категорический отказ. Так и не найдя компетентного критика, согласного взяться за это гнусное предприятие, и вконец отчаявшись, заговорщики остановили свой выбор на молодом литераторе, писавшем иногда для «Меркюр» и воспылавшем ко мне столь же яростной, сколь необъяснимой ненавистью.
Атака заговорщиков была неистовой и совершенно безрезультатной. Бедняга литератор сопоставлял тексты самым нелепым образом. Всякий раз, как он находил в английских источниках и в моих книгах невинные совпадения типа «у маленькой Айанте, дочери Шелли, были голубые глаза», он громко трубил победу. Чего же он хотел? Чтобы из соображений оригинальности я заявил, будто глаза у нее были карими? С «Дизраэли» вышло еще глупей. Мой оппонент обвинял меня в копировании книги Монипенни и Баккла! Меж тем как Баккл был в ту пору еще жив и не только на меня не жаловался, но даже поздравил с выходом в свет моей книги. В действительности не существовало никакой литературной связи между его замечательной, объективной биографией Дизраэли, состоящей из нескольких толстенных томов, и портретом, написанным мной, сугубо субъективным и импрессионистским.
Все эти детские нападки были тем не менее опубликованы в журнале, считавшемся серьезным. Я не мог оставить публикацию без внимания. Сознание собственной невиновности придало мне сил, и я отправился к Валетту, директору «Меркюр», которого Грассе считал человеком порядочным. Я сказал, что удивлен тем легкомыслием, с которым он решился напечатать бездоказательную и клеветническую статью, противоречащую мнению лучших английских писателей. «Ваши обвинения беспочвенны, — сказал я ему. — Если бы вы показали мне гранки, что было бы учтивым и благородным шагом, я бы убедил вас в ничтожности предъявляемых мне претензий». Впоследствии мои слова были до неузнаваемости искажены одним из присутствовавших при разговоре.
Валетт проявил совершенное непонимание, которое меня изумило, и ответил, что подобные «кампании» в традиции его журнала и что, если я считаю необходимым написать опровержение, он будет счастлив его опубликовать. Более опытные литераторы, мои друзья, уговаривали меня не делать этого. «Вы сыграете им на руку, — убеждали они меня. — Чего они хотят? Поднять шумиху, привлечь к себе внимание. Не помогайте им».
Я вспомнил девиз Дизраэли: «Never explain, never complain». Но я был настолько уверен в своей правоте, что не мог молчать и написал длинный ответ. Самые видные английские критики, в том числе Эдмунд Госс, разобравшись, в чем дело, прислали мне заверения, что они всецело на моей стороне. Заговорщики нашли себе лишь одного сообщника среди англичан, да и то совершенно некомпетентного — Фрэнка Хэрриса. Кампания провалилась. Позже, во время оккупации, ее подхватят пронемецки ориентированные газеты. А Леото и Валетт пожалеют о том, что они ее затеяли. Когда вышли мои «Превратности любви», Леото сказал: «Хороший роман он написал. Зря мы на него нападали».
В сущности, это был неплохой человек, только очень несчастный. Мое кажущееся счастье задевало его. «Превратности любви» открыли ему, что я тоже страдаю, и он смягчился ко мне. Я, со своей стороны, простил его. После этой бальзаковской истории и моих «утраченных иллюзий» у меня осталось странное ощущение, что я уже давно являюсь предметом недремлющей и неослабевающей ненависти каких-то неведомых мне людей.
До описанных событий я плохо себе представлял, что такое ненависть, ибо никогда не питал ни к кому этого чувства. Я никогда не завидовал собратьям по перу, но моей заслуги здесь не было, так как литературный мир, в который я попал, оказался доброжелательным и справедливым. Когда Робер де Флер сказал мне: «Я собираюсь присудить вам Гран-при Французской академии за лучший роман», я посоветовал ему отдать премию другому писателю, более, на мой взгляд, достойному. И тот ее получил. Однако завоевать друзей любовью и справедливостью труднее, нежели нажить врагов небрежением и неосторожностью. Возможно, я когда-то, сам того не ведая, обидел кого-нибудь из коллег, не назвав их моими учителями, забыв поблагодарить за статью или присланную книгу. Поглощенный работой, я не заботился о том, что обо мне думают. Усердие и увлеченность творчеством не мешали мне радоваться успехам моих любимых писателей и вместе с тем строго судить собственные произведения, которые всегда получались хуже замысла. Поэтому я несказанно удивился тому, как изобразил меня зоил.
По правде говоря, я совершенно упустил из виду, что, с тех пор как стал приобретать известность, за моей спиной начал расти некий «персонаж», созданный и вскормленный завистниками и недоброжелателями. Что же это был за «персонаж»? Писатель, вышедший из деловых кругов и озабоченный исключительно тиражами (на самом деле, работая над «Жизнью Шелли», я, как и мой издатель, был уверен, что книга, написанная для себя, мало кого заинтересует). А может, богач, окруженный сонмом секретарей, выискивающих для него материалы (тогда как единственной моей секретаршей была жена, а сам я не знал большего наслаждения, чем рыться в источниках). Или очень занятой господин, диктующий свои книги стенографисткам (в действительности я писал их собственноручно от начала до конца и переделывал по пять-шесть раз). Если бы я встретил где-нибудь такого «персонажа», то первым бы его возненавидел. Живой человек, напротив, был страстно влюблен в свою замечательную профессию, всей душой желал творить добро, быть справедливым и «приятным», как сказал бы Пруст. Так что, если бы мой зоил знал живого человека, он, вероятно, нашел бы его вполне безобидным и достойным уважения. Но зоил видел только «персонаж» и потому оставался зоилом.
Если разобраться, враги приносят немалую пользу. Их недружелюбные выпады вызывают дружеские по отношению к нам чувства со стороны других людей. Писатели, которые до сего момента, казалось, не питали ко мне симпатии, вдруг разом стали на мою сторону из-за того, что я подвергался столь недостойным нападкам. Одаренные молодые люди более радикальных воззрений, чем я сам, энергично выражали мне свое расположение. «Выходит, — писал социалист Жан Прево, — что ни самое корректное поведение, ни самая взыскательная профессиональная совесть не могут оградить писателя от клеветы». Такое заступничество обрадовало меня больше, нежели огорчили наговоры. И когда после этого вышла моя следующая книга, «Превратности любви», единодушная благожелательность и теплота, с какими она была принята, окончательно примирили меня с жизнью.
У этого романа странная история, ибо родился он как бы помимо моей воли. «Ревю де Пари» заказал мне новеллу на четыре-пять тысяч слов, и я задумал описать событие, свидетелем которого мне довелось стать. С одним из моих приятелей в Марокко случился сердечный приступ, и он упал в обморок, врач же без обиняков заявил, что жить ему осталось несколько часов. Придя в себя, обреченный собрал своих близких и сказал, что хочет остаться в их памяти таким, каким был на самом деле, после чего приступил к длинной публичной исповеди, как в русских романах. Волнение. Слезы. Прощание. И наконец, ожидание скорой смерти. Но смерть так и не наступила, а несчастный остался жить в окружении друзей, знавших о нем всю подноготную и не верящих больше в легенду, которую он создавал о себе всю жизнь. Я назвал эту историю «Марокканская ночь, или Смерть и воскресение Филиппа». Исповедь героя касалась его отношений с тремя женщинами и была, в сущности, описанием страданий, которые он причинял им своими слабостями.
Когда Симона перепечатала рассказ и я его прочел, оказалось, что из трех женщин две вышли живыми и правдоподобными (первая и третья), а вторая, актриса Женни Сорбье, была совершенно нереальна. Не удался и марокканский антураж. Убрав его и Женни, я получил костяк нового романа. Начал писать его почти бессознательно, и он на редкость легко «пошел». Может быть, потому, что чем-то напоминал мою собственную жизнь. Вымысел, правда, был весьма далек от реальности, и те, кто прочтет подряд «Превратности любви» и мои мемуары, увидят, насколько они различны. Люди, не посвященные в алхимию вызревания романа, будут искать прямые соответствия между жизнью и литературным произведением. Но их не существует. Я лишь напитал моих вымышленных персонажей подлинными человеческими страстями, отсюда и их правдоподобие.
В первой редакции романа Филипп Марсена, похоронив Одиль, решается на фиктивный брак, чтобы оградить себя от романтических увлечений. Он берет в жены собственную кузину, Рене Марсена, немолодую и некрасивую девицу сурового нрава. Когда я перечитал написанное, то обнаружил некоторые несоответствия. Мой Филипп, каким он выведен в первой части, видел в Одили Сильфиду своих грез и не мог решиться на брак по расчету, который я ему навязал. Чтобы женить Филиппа вторично, надо было уверить его в том, что он вновь обрел исчезнувшую Сильфиду, и придумать ему женщину «в его духе», такую, чтобы он искренне поверил в перевоплощение Одили. Изабелла родилась из невозможности женить Филиппа на Рене. В сущности, Изабелла — это Филипп в юбке, точно так же как у Стендаля Ламиель — это Жюльен Сорель в женском варианте. Изабелла становится для Филиппа не столько второй Одилью, сколько олицетворением его собственной юности.
Закончив новый вариант романа, я понял, что первая часть вышла волнующей, а вторая — неприятной. В чем же дело? Да в том, что в первой части герой не устает повторять: «Я любил, но не был любим», во второй части он причитает: «Я любим больше, чем люблю сам», и в этом сквозит гнусное самодовольство. Я решил «вывернуть» вторую часть, превратив ее в исповедь Изабеллы. Вот так, вынужденно, а вовсе не по изначально продуманному плану роман принял форму диптиха, которую одни сочли оригинальной, а другие ругали за искусственную симметрию. Из всех моих книг «Превратности любви» снискала наибольшее число читателей, правда, не в англосаксонских странах, хотя Вирджиния Вулф написала о ней необыкновенно умную и проницательную статью; книгу читали во Франции, Германии, Италии, Испании, Польше и Латинской Америке, а теперь еще и в СССР. Стоит ли книга того? Отражает ли она истинное лицо любви? «Да будет судьей любящий, а я воздержусь от решения».
«Превратности...» я закончил в Шалдорф-парке, в Суррее, куда мы уехали на лето. Весной того же 1928 года я читал в Кембридже ежегодный курс лекций по литературе. В 1927 году этот курс читал Эдуард Морган Форстер; Десмонд Маккарти должен был читать его в 1929-м. Форстер взял себе темой «Взгляд на роман», я выбрал «Взгляд на биографию» и постарался раскрыть своим слушателям некоторые премудрости ремесла биографа. Курс длился шесть недель; на этот период лектора селили в Харкуртских палатах Тринити-колледжа — величественных апартаментах, свидетелях многих исторических событий; трапезы мои проходили за Высоким столом, я сидел бок о бок с главой колледжа, видным физиком сэром Джозефом Томпсоном. «Почему Англия дает миру столько знаменитых ученых?» спросил я его однажды. «Потому что мы не преподаем науки в школах, — объяснил он. — Свежие головы, интересующиеся физикой, приходят сразу в лабораторию, не успевая погрязнуть в рутине теорий».
Я всей душой полюбил Кембридж, его старые колледжи из серого камня, вытянувшиеся вдоль реки, нежно-зеленые береговые склоны, ивы, нависшие над водами Кема, старинные мостики, под которыми снуют плоскодонки с молодежью, залу, насчитывающую не одно столетие, в которой я читал свои лекции, преследуемый веселым и беспощадным взглядом Генриха VIII, увековеченного Хольбейном. Кроме сэра Джозефа, на моих лекциях присутствовали еще два знаменитых профессора: поэт Хаусмен и историк Тревельян. Когда я принялся рассказывать о Литтоне Стрейчи, Тревельян заметил: «В истории английской биографии XX века важнейшим событием является не портрет королевы Виктории, написанный Стрейчи, а победа королевы Виктории над Стрейчи».
В Тринити-колледже учился когда-то Байрон. Я частенько ходил к тому месту у излучины реки, где он любил нырять в глубокую заводь и, достигнув дна, цепляться за сгнивший остов дерева. В то время я делал записи, собирая материал для будущей книги. В «Ариэле» я набросал его портрет, но остался им недоволен. Мне казалось, что я был к Байрону несправедлив и что в его внешнем цинизме больше благородства, чем в чувственном идеализме Шелли. Его письма, которые я старательно изучал, восхищали меня резким и откровенным противопоставлением голых фактов, что напоминало манеру иных живописцев играть на контрастах чистых цветов. Тем же летом я сделал вылазку в школу Харроу и нашел имя Байрона, вырезанное им когда-то на дубовой обшивке стен, посетил могилу Пичи, куда приходил думать хромой поэт, видел розовый куст на могиле его дочери Аллегры. Кроме того, на самом севере Англии я посетил аббатство Ньюстед, родовое имение Байронов. Монастырская церковь была разрушена, но жилые здания все еще поражали величием и благородством; при виде этих готических арок, монастырских стен, леса и озера я вдруг понял, что испытал маленький мальчик, когда после невзрачного Абердина вдруг сделался полновластным хозяином этих дивных владений. Мне более чем когда-либо стало ясно, сколь важно для биографа посетить места, где жили его герои. Ньюстед дал мне ключ к пониманию детства Байрона: то, что его враги называли позже снобизмом, было всего лишь изумлением маленького Байрона, привыкшего к Абердину, перед лордом Байроном, хозяином Ньюстеда.
Неподалеку от Ньюстеда, в Эннесли-холле, все еще жили потомки Мэри Чауорт, первой любви поэта. Я попросил их показать мне лестницу, где Байрон услышал слова юной особы: «Как мне может понравиться хромой мальчик?» И дверь, которую он изрешетил пулями, стреляя из пистолета. Обитатели Эннесли мистер и миссис Мастерз мало что знали о той, чей род продолжали. Совершенно иной оказалась леди Ловлейс, вдова внука Байрона, ревностно и благоговейно хранившая семейные архивы. Я знал, что в ее руках находится множество ценных бумаг, в том числе дневник леди Байрон, разрешавший спорную проблему инцеста. Невозможно было правдиво описать жизнь Байрона, не изучив эти единственно достоверные источники. К счастью, у нас оказалась общая знакомая — леди Джордж Хамильтон, и я, получив разрешение прочесть документы, отправился на несколько дней в Окхэм-парк, замок леди Ловлейс. Там ночи напролет при свете двух свечей я увлеченно расшифровывал невероятные свидетельства — записки этой рьяной пуританки. Повествование ее было столь живо, что я так и видел Байрона, шагающего своей прыгающей походкой меж серых каменных стен, и слышал его голос.
Вернувшись в Лондон, я пришел с визитом к престарелому лорду Эрнлю, который (под своим первым именем — Протеро) опубликовал когда-то письма Байрона. «Я в затруднительном положении, — сказал я ему. — Вы всегда утверждали, что между Байроном и Августой не было инцеста... Я могу доказать обратное, и в то же время мне неловко вам противоречить... Как быть?» Он весело рассмеялся: «Как быть? Да очень просто. Если был инцест, так и скажите. Мне же почти восемьдесят, в моем возрасте негоже менять убеждения».
Чтобы завершить байроновские исследования, мне пришлось повторить маршрут Чайльд Гарольда. Воспользовавшись этим заманчивым предлогом, в 1928-1930 годах я много путешествовал по Европе. Меня сопровождала жена. От нежных австриячек мы попадали к прекрасным гречанкам; болота и сосны Равенны сменялись венецианскими дворцами; Акрополь — лагунами Миссолунги. Путешествуя по гостеприимной, многоликой Европе, могли ли мы предположить, что через десять лет она будет лежать у ног завоевателя во власти нищеты и раздора.
Когда мы вернулись из путешествия, Гарольд Никольсон, автор замечательной книги «Байрон в последние годы жизни», дал мне прочесть записки Томаса Мура о Байроне с комментариями его лучшего друга Хобхауса; а леди Ловлейс предоставила мне многочисленные письма, среди которых были письма Байрона-отца, стилем напоминавшие Байрона-сына и чрезвычайно интересные с точки зрения деталей жизни родителей поэта. Редко биограф имеет в своем распоряжении столько неизданных документов. Возможно, с художественной точки зрения моя книга от этого пострадала. Она получилась чересчур длинной, что, безусловно, плохо, но мне не хотелось жертвовать бесценными материалами. Все же Байрон, кажется, вышел похожим на себя.
Некоторые критики принялись упрекать меня в том, что я написал не повесть о жизни Байрона, как, скажем, о жизни Дизраэли, а университетскую диссертацию. Я, признаться, сам давно не перечитывал книгу и уже не знаю, чего она стоит. Во всяком случае, она принесла мне ощутимую пользу, освободив от ярлыка автора «романизированных биографий». Хорош или плох мой «Байрон», но он, несомненно, свидетельствует об огромной подготовительной работе. «Не стоит забывать, писал английский критик Десмонд Маккарти, — что это самая серьезная и полная книга, которая была написана о Байроне». Помимо всего прочего, эта биография примирила меня с учеными мужами. Я поджидал их без трепета, укрывшись в бастионе сносок и ссылок. И они явились: не противниками, но друзьями. В литературе, как и в жизни, готовность к войне укрепляет мир. [...]

 |
 |

Часы
Поиск
...
Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Статистика
Статистика Рамблер
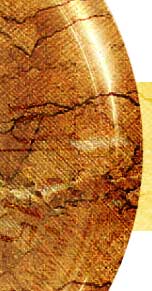 | Четверг, 21.11.2024, 10:18 |
| Приветствую Вас Гость | RSS | |
 АНДРЕ МОРУА АНДРЕ МОРУА | |
| Главная | Регистрация | Вход | |
«Превратности любви» |
